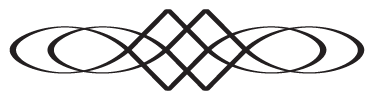Статья опубликована: Кубышкин А.И. Цветков И.А. Современная американская историография внешней политики США: дискуссии о методологии // АМЕРИКАНСКИЙ ЕЖЕГОДНИК 2021 / ФГБУН «Институт всеобщей исто_
рии РАН»; отв. ред. проф. В.В. Согрин. – Москва: Издательство «Весь Мир»,
2021. Сс. 295-313
Изучение истории внешней политики выделилось в США в особую научную дисциплину в начале XX века, когда страна заявила о себе как об одном из лидеров мировой экономической, а затем и политической системы. С тех пор американская историография внешней политики США прошла несколько этапов развития, от классических «патриотических» трудов Д. Перкинса и С.Ф. Бимиса, через прогрессистскую критику 1930–1940-х гг., к консервативному консенсусу первых десятилетий «холодной войны» и «новому левому» ревизионизму 1960-х гг. Все эти периоды американской историографии достаточно хорошо изучены, в том числе и в отечественной литературе, в частности, в трудах Н.Н. Болховитинова, И.П. Дементьева, В.В. Согрина, В.О. Печатнова.
Принято считать, что после поражения во Вьетнамской войне дипломатическая история как научная дисциплина вступила в США в период затяжного кризиса. Очевидные ошибки политического руководства на внешнеполитической арене заставили многих ведущих историков занять резко критическую позицию по отношению к институтам политической власти, что не могло не отразиться на содержании их исследований. Раскрытие империалистической сущности внешней политики США превратилось в один из лейтмотивов ученых занятий американских историков, многие из них перешли на лево-либеральные идеологические позиции. Но, в отличие от советских историков, всегда работавших именно в этом ключе, американские ученые в массе своей воздерживались от прямой критики и обличений, избрав вместо этого путь постепенной методологической эволюции, приведшей в итоге к существенному умалению роли государства в трудах по истории внешней политики США. Изучение дипломатической истории в традиционном ключе стало считаться к рубежу 1980–1990-х гг. почти что дурным тоном. Опора на материалы американских архивов, дипломатическую переписку, акцент на событиях «большой политики» – все это после Вьетнама уже не представлялось перспективным. Значительная часть исследователей молодого и среднего поколения сменила специализацию и тематику исследований, а ученых-традиционалистов стали упрекать в том, что они не смогли извлечь из истории нужных уроков и убедить политиков в губительности избранного курса. Даже после триумфального для США окончания «холодной войны» государство как актор внешней политики не было реабилитировано, скорее наоборот – новая эпоха еще больше диверсифицировала исследовательские интересы американских историков.
На протяжении 1970–1980-х гг. историческая наука в США и странах Западной Европы проходила через эпоху кардинального методологического обновления, которое поначалу задевало историографию внешней политики США лишь по касательной. Внимание к социальной истории, клиометрия, затем стремительное проникновение в историческую науку идей постмодернизма, всеобщий интерес к деконструкции «больших нарративов», гендерные и расовые исследования превратились к рубежу 1980–1990-х гг. в академический мейнстрим, что поставило историков дипломатии перед экзистенциальным выбором: либо игнорировать все эти новомодные течения, с перспективой дальнейшей профессиональной маргинализации, либо попытаться привести предмет и метод своего научного направления в соответствие с требованиями научной моды.
Одним из первых, критическую оценку ситуации в историографии дипломатической истории дал в 1971 г. Э. Мэй в статье с говорящим названием «Закат дипломатической истории»[1]. Десятилетие спустя гарвардский профессор Ч. Мейер констатировал, что «история международных отношений (включая дипломатическую историю США, а также других стран), к сожалению, не относилась к числу передовых направлений исторической науки в 1970-е годы»[2].
Для преодоления узкого и ограниченного подхода к осмыслению сложных международных феноменов, авторы критических статей предлагали «расширять методологический кругозор», «разрушать стены между дисциплинами», дополнять материалы американских дипломатических архивов свидетельствами из архивов зарубежных стран.
Первой реакцией профессионального сообщества историков дипломатии на идею мультиархивных исследований был всеобщий скепсис. Озвучивался тезис, который и сегодня, на новом этапе историографической дискуссии, довольно часто используется сторонниками «американоцентричного» подхода: зачем американским историкам изучать архивы других стран, если США во второй половине ХХ века превратились в самую могущественную державу, средоточие политической власти, а решения, принимаемые в Вашингтоне, оказывали (по крайней мере, в период «холодной войны») наиболее существенное, часто определяющее влияние на ход истории? Кроме того, даже обработка многочисленных новых источников американского происхождения, не говоря уже о зарубежных архивах, представляла собой к тому времени весьма трудновыполнимую задачу. Архивы же СССР и других стран Восточного блока все еще находились за плотным «железным занавесом», и введение хранящихся там документов в научный оборот представлялось полнейшей утопией.
Но уже в конце 1980-х гг. стало понятно, что аргументы традиционалистов больше не могут никого убедить: «холодная война» внезапно завершилась, архивы СССР и стран Восточной Европы стали открываться для иностранных исследователей, а в западной исторической науке широко распространились идеи М. Фуко, который понимал власть в гораздо более широком смысле, по сравнению с историками дипломатии и сторонниками теории политического реализма: не как принуждение со стороны государства, а как сложную систему дискурсов, устанавливающих отношения власти и подчинения на разных этажах социальной иерархии. Этот базовый тезис позволил по-новому взглянуть и на историю гендера, и на историю межрасовых отношений, и на многие другие социальные взаимодействия. Оставался всего один шаг до перенесения такого подхода и в сферу изучения истории внешней политики. Однако, как показало развитие событий, чтобы сделать этот шаг пришлось пойти на серьезные жертвы, и даже скорректировать название научной дисциплины «история дипломатии», потому что новое понимание международных отношений превращало собственно дипломатов в наименее интересных и достойных изучения акторов глобальной системы.
В 1990-е гг., после двух десятилетий методологических дискуссий, историки-традиционалисты были вынуждены отступить перед напором обстоятельств и новых научных теорий[3]. В американских университетах массовый характер приняло закрытие ставок по дипломатической истории после ухода на пенсию занимавших их профессоров. В 1975 г. в США 7% историков относили себя к категории «историков дипломатии», а к 2015 г. их доля сократилась более чем в два раза, до 3%. В 1975 г. на 85% истфаков был хотя бы один специалист по дипломатической истории. В 2015 г. показатель снизился до 44%. Из 587 исторических вакансий Американской исторической ассоциации в 2015 г. лишь 9 были связаны с дипломатической историей. В 2016 г . – 3 из 572[4]. При этом надо иметь в виду, что в XXI веке появилась так называемая «новая история дипломатии», имеющая мало общего с традиционной дипломатической историей, и большая часть новых ставок в университетах США открывалась на протяжении последних десятилетий именно в рамках этой специализации.
Ключевые установки нового направления в историографии внешней политики были впервые представлены в целостном и системном виде в сборнике, выпущенном по итогам конференций Ла Пьетра 1997–2000 гг. во Флоренции, в итальянском кампусе Нью-Йоркского университета[5]. Два подхода: интернациональная и транснациональная история, заняли место, ранее отведенное в институциональной структуре американской исторической науки «истории дипломатии». Уже сам факт проведения конференции историков внешней политики США за пределами Соединенных Штатов указывал на важнейшую новацию в методологии: теперь в научной литературе преобладал взгляд на внешнеполитическое поведение Америки не изнутри, а извне, глазами других участников международных взаимодействий. То, что раньше называлось «историей дипломатии», теперь стало изучаться в рамках дисциплины, именуемой «Америка и мир» или «международная история США». Сами ученые часто называли свой предмет «новой историей дипломатии», подчеркивая обособленность от традиционного «устаревшего» научного направления. Примечательно также, что конференции Ла Пьетра проводились под эгидой Организации американских историков, а не специализированного Общества историков американской внешней политики (созданного в 1967 г., на пике популярности дипломатической истории, и в преддверии ее долгого кризиса).
Почти полное растворение истории дипломатии в интернациональной и транснациональной истории на рубеже XX–XXI вв., по мнению самих историков-постмодернистов, вовсе не свидетельствовало об упадке традиционной и некогда уважаемой дисциплины. Во всяком случае, так стали оценивать ситуацию десятилетие спустя после знаменитых конференций на вилле Ла Пьетра. В 2009 г. в «Журнале американской истории» была опубликована статья Т. Зейлера «Триумфальное шествие дипломатической истории: состояние дисциплины»[6], в которой автор выдвинул парадоксальный на первый взгляд тезис о небывалом расцвете дипломатической истории в начале XXI века. Зейлер указывал в статье на то, что большая часть старых институций, возникших в дисциплинарных рамках «истории дипломатии», не только не распалась в результате многолетнего кризиса, но, наоборот, приобрела новый импульс, благодаря успешной внутренней перестройке и принятию методологических подходов бывших идейных оппонентов. На месте старой дипломатической истории родилась новая. Общество историков американской внешней политики вернуло себе репутацию уважаемой и финансово благополучной профессиональной организации, к середине второго десятилетия XXI века она насчитывала более 2000 членов из 34 стран. Издаваемый ею журнал «Дипломатическая история» перестал из номера в номер перепечатывать бесконечные сетования историков старой школы на кризис и упадок. Статьи авторов, относящих себя к предметной категории «история дипломатии» (правда с указанием, что речь идет о новой истории дипломатии) с удовольствием принимали к публикации во всех «модных» научных исторических журналах, включая журналы об истории женщин и афроамериканцев. Имена этих ученых неизменно оказывались в списках обладателей премий за лучшие монографии по истории, их приглашали на конференции, избирали председателями исторических ассоциаций. Зейлер даже высказал несколько провокационное суждение о том, что именно новая дипломатическая история превратилась к концу первого десятилетия XXI века в передовую отрасль исторической науки США, и на нее должны теперь ориентироваться в методологическом плане все другие исторические субдисциплины.
Одной из наиболее известных самопрезентаций новой дипломатической истории стало выпущенное в 2016 г. третье издание историографического сборника Explaining the History of American Foreign Relations, редакторы которого Ф. Костиглиола и М. Хоган утверждали, что со времени первого издания 1991 г. историки-международники провели серьезную «работу над ошибками» и внесли в тематику и методологию своих исследований все «соответствующие эпохе» корректировки[7].
В частности, «в соответствии с преобладающими в среде интеллектуалов-гуманитариев во втором десятилетии XXI в. представлениями», в рамках новой дипломатической истории (или «международной истории США», как ее предпочитают называть Костиглиола и Хоган) считается общепризнанным, что индивиды, социальные группы и нации осуществляют «социальное конструирование значений идей, действий и процессов, в соответствии с доминирующими культурными нормами и практиками»[8]. Таким образом, можно утверждать, что к моменту победы Д. Трампа на президентских выборах в 2016 г., в историографии внешней политики США «окончательно и бесповоротно» восторжествовал социальный конструктивизм.
Это нашло отражение в различных течениях, образовавшихся в рамках «новой истории дипломатии». Чаще всего в данном контексте упоминаются гендерные исследования внешней политики, изучение роли религии, феномена исторической памяти, концепция «пограничных зон», анализ когнитивно-психологических и эмоциональных факторов принятия внешнеполитических решений.
Гендерный подход в изучении истории внешней политики США наиболее интересен не в плане предсказуемого акцента на роли женщин и распространении идей американского феминизма в разных странах (хотя эти темы, конечно же, очень активно освещаются в современной литературе), а благодаря вниманию к меняющимся на протяжении истории представлениям о маскулинности («мужественности»). Авторы, изучающие этот вопрос, пришли к довольно убедительным выводам о стремлении американских политических лидеров разных эпох соответствовать идеалу «настоящего мужчины», и принятии ими гендерно мотивированных решений во внешней политике. Именно так в своей знаменитой монографии интерпретировала решение о вступлении США в войну с Испанией в 1898 г. К. Хогансон[9]. По ее мнению, политики всегда находятся в поиске простых объяснений сложных конфликтов, и следование социальным стандартам «мужественности» часто оказывается наиболее удобным и понятным для избирателей модусом политического поведения. Задачей же историков является реконструкция социальных представлений о мужественности в разные эпохи.
Похожую методологию в своем труде о Сталине, Рузвельте и Черчилле использовал Ф. Костиглиола. Он пришел к выводу, что именно схожее понимание «достойного мужского поведения» позволило лидерам антигитлеровской коалиции найти общий язык, несмотря на идейные и политические разногласия[10].
Р. Дин применил гендерный подход для интерпретации событий войны во Вьетнаме. По его мнению, мировоззрение политической элиты США испытало на себе огромное влияние университетских студенческих братств, основанных на культе маскулинности, идеях служения и мужской жертвенности. Во внутренней политике это нашло отражение в маккартизме, преследованиях коммунистов и гомосексуалистов, а на внешнеполитической арене привело к решению «по-мужски разобраться» с оппонентами в джунглях Юго-Восточной Азии[11].
Отдельное направление гендерных исследований истории внешней политики США связано с гипотезой о гендерной идентичности разных стран, которая может быть либо «самопровозглашенной», либо навязанной извне. В этом духе Наоко Шибусава предприняла новаторское исследование американо-японских отношений и указала на гендерный переход, который позволил американцам быстро поменять свое отношение к побежденной Японии: во время войны Япония воспринималась как агрессивный мужчина, а после ее окончания превратилась в слабую женщину или даже ребенка, которых нужно было защищать от маскулинного насильника в лице мирового коммунизма[12]. Ф. Костиглиола усмотрел похожий подтекст в «длинной телеграмме» Дж. Кеннана. При этом он отделил «максулинное» советское правительство от советского народа, представленного в «длинной телеграмме» в роли слабой женщины, которую необходимо защищать (Костиглиола даже связал эту позицию Кеннана с его опытом жизни в Москве и общения с русскими женщинами)[13].
Внимание к религиозному фактору во внешней политике США привело исследователей к интерпретации доктрины сдерживания как религиозной идеологии (У. Инбоден[14]), переосмыслению опыта деятельности американских миссионеров за рубежом (в работах ученых из азиатских стран акцент теперь обычно делается на восприятии миссионерских усилий местными жителями). В современной историографии религию перестали воспринимать как феномен в нисходящей фазе развития, отступающий перед лицом неотвратимой секуляризации. Религиозные мотивы принятия политических решений теперь рассматривают всерьез, и не считают нужным искать какие то иные, «подлинные» причины действий политиков (например, решение президента Маккинли о колонизации Филиппин в современной литературе объясняется снизошедшим на него «божественным откровением», которое вполне могло стать важнейшим мотивом поведения этого политического деятеля, известного своей искренней и глубокой религиозностью[15]).
Проблематика «исторической памяти» рассматривается в современной литературе применительно к самым разным сюжетам, некоторые из которых связаны с историей внешней политики США. Конечно же, «историческая память» понимается как социальный конструкт, а не что-то объективное и неизменное. К. Швенкель разобрала с этих позиций память о Вьетнамской войне и пришла к выводу о существовании в современном Вьетнаме множества конфликтующих друг с другом нарративов, каждый из которых претендует на статус полноценной «истории», санкционированной государством[16]. Историки войны на Тихом океане также развивали этот тезис, обратив внимание на специфическое восприятие событий Второй мировой в каждой из стран Восточной Азии[17]. Занятия «исторической памятью» окончательно убедили многих исследователей в том, что помимо государственных архивов необходимо вводить в научный оборот документы популярной культуры. В частности, огромную популярность для реконструкции восприятия Америки в различных странах в разные десятилетия XX и XXI веков приобрело изучение кинофильмов (одной из первых этим занималась Э. Розенберг, написавшая в 1994 г. статью о фильме Foreign Affair и образе США в послевоенном Берлине[18]).
Еще одной излюбленной темой историков-конструктивистов стало изучение «пограничных зон» как мест интенсивного межкультурного взаимодействия, приводящего к «перемешиванию» идентичностей, возникновению разного рода социально-культурных иерархий, существующих параллельно и часто независимо от национальных государств и мира большой политики и экономики. Одним из наиболее известных представителей этого направления считается Р. Уайт, создавший школу «новой истории американского Запада», в рамках которой не только произведено множество исследований пограничных зон между США, Мексикой, территориями индейских племен, но и разработано несколько проектов в рамках «визуальной истории», представления «больших данных» в цифровой интерактивной форме[19]. Помимо собственно американского пограничья, последователи «новой истории дипломатии» уделяли много внимания и другим регионам, в которых межкультурные связи развивались вопреки маршрутам пролегания границ национальных государств. Историки, работающие в рамках этого подхода, показали, как внешнеполитические усилия США порой оказывались тщетными из-за непонимания американскими лидерами особенностей организации социальных коммуникаций на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и других регионах земного шара[20].
Изучение психоэмоциональных и когнитивных факторов принятия внешнеполитических решений развивалось в США еще с середины XX века, когда Александр и Джульетта Джордж попытались истолковать поведение президента В. Вильсона с точки зрения психоанализа[21]. Впоследствии, использование фрейдистской методологии было отвергнуто большинством ученых, но интерес к психологии и эмоциональному измерению внешней политики сохранился, и в рамках «новой дипломатической истории» эта тема стала одной из приоритетных. Внутри нее можно выделить несколько направлений. Во-первых, это составление психологических портретов политических лидеров, обнаружение разнообразных корреляций между психотипами и характером принимаемых решений. Например, еще на заре развития «психоистории» удалось установить, что президенты-экстраверты выступали за улучшение отношений с коммунистами, а интроверты – наоборот[22]. Во-вторых, это использование в анализе внешней политики «теории малых групп», предложенной много лет назад И. Джэнисом. Эта теория гласит, что после формирования небольшой замкнутой группы лиц, принимающих решения, рациональные соображения быстро отступают на второй план и начинают действовать бессознательные механизмы, ведущие к гипероптимистической оценке отдельных идей, конкурентному противопоставлению с «враждебными» группами, акцентированной «внутренней солидарности». Представители «новой истории дипломатии» склонны считать, что именно по такой схеме принимались многие провальные решения во внешней политике США, например о проведении операции в заливе Свиней в 1961 г. или о начале в 2003 г. войны в Ираке[23].
Третьим популярным направлением «психоистории» стало привлечение данных современных когнитивных исследований, в частности работ о доминирующей роли эмоций при принятии решений, внешне обоснованных рациональными аргументами. Ради того, чтобы остаться в зоне психологического комфорта, политические лидеры либо отказываются от инициативы во внешней политике, либо, наоборот, совершают импульсивные действия под влиянием страха. При этом они всегда больше готовы идти на риск для избежания вреда, чем для приобретения выгоды[24].
К четвертому типу исследований эмоций в рамках «новой истории дипломатии» можно отнести изучение существовавших в разных странах и в разные эпохи «эмоциональных режимов», то есть общепринятых правил и норм демонстрации, либо сокрытия эмоций. Эти правила и нормы довольно часто оказывали воздействие на характер внешнеполитических решений, наряду с психологическими особенностями лидеров и внутренними конвенциями «малых групп»[25].
Мы охарактеризовали лишь малую часть направлений «новой истории дипломатии», однако этих примеров, на наш взгляд, достаточно, чтобы увидеть, как далеко американские ученые отошли за последние годы от классических подходов в изучении истории внешней политики.
За четыре бурных года президентства Трампа, в американском обществе произошла масштабная переоценка ценностей. Стала совершенно очевидна хрупкость и уязвимость выстраиваемой десятилетиями глобальной американской империи. На международной арене в полный голос заявил о себе «новый национализм», маятник вновь качнулся в сторону укрепления национальных государств перед лицом еще недавно казавшейся неотвратимой глобализации. Внутри США между противоположными идейными лагерями образовался глубочайший раскол. От этих процессов не могла остаться в стороне и гуманитарная наука. В историографии любые формы методологического триумфализма теперь выглядели гораздо менее уместными, чем раньше. «Новая история дипломатии», сформировавшаяся как дисциплина в период после окончания «холодной войны», и основанная на гипертрофированно оптимистических представлениях о новой глобальной реальности, оказалась перед лицом серьезных вызовов из-за стремительного регресса в международных отношениях, возвращения политических, экономических и социально-культурных практик, которые казались навсегда отправленными в «мусорную корзину истории».
Один из наиболее глубоких и содержательных критических разборов ситуации в сфере изучения истории внешней политики США был предложен в 2020 г. Д. Бесснером и Ф. Логвалем[26]. Примечательно, что гарвардский профессор истории Ф. Логваль был и в числе авторов «конструктивистского» сборника 2016 г., так что его трудно заподозрить в предвзятом негативном отношении к «новой истории дипломатии» как таковой. Статья была опубликована в созданном осенью 2017 г. электронном журнале Texas National Security Review, который за последние годы превратился в одну из важнейших трибун для критиков существующего положения дел в американской дипломатической истории.
Ключевая претензия Бесснера и Логваля к популярным методологическим подходам заключалась в том, что все существующие направления новой дипломатической истории лишали американское государство заслуженного ведущего места во внешней политике США. В рамках «международной истории США» принято делать акцент на «взгляде со стороны» на американскую внешнюю политику, на деятельности международных контрагентов США, их политической, экономической и культурной субъектности. «Транснациональная» методология и вовсе исходит из тезиса о резком снижении роли государств (наций) в международных отношений, авторы работающие в этой парадигме обращают внимание на разного рода негосударственных акторов международной системы, которые взаимодействуют между собой и с такими же субъектами внутри США. Для конструктивистов государственные структуры также интересны в последнюю очередь, так как по их убеждению культурные смыслы и идентичности рождаются не в правительственных кабинетах, а в процессе сложных социальных практик и коммуникаций (причем наиболее интенсивно этот процесс идет в разного рода «пограничных» культурных пространствах).
Однако сегодня, когда национальные государства вновь заявляют о себе как о наиболее влиятельных игроках международной системы, такое пренебрежение к ним со стороны исследователей обходится для науки слишком дорого. Бесснер и Логваль приводят в статье длинный список внешнеполитических сюжетов, которые до сих пор не получили должного освещения в литературе, по причине историографической моды на все «негосударственное». Речь идет о появлении в США после терактов 11 сентября нового «государства национальной безопасности», историю внешнеполитических институтов которого никто еще должным образом не изучал. Хотя огромное количество статей и монографий посвящено истории формирования ценностей и идентичностей «незаслуженно забытых меньшинств», никто даже не попытался всерьез исследовать систему ценностей американской внешнеполитической элиты последних десятилетий: а ведь именно ее представители, а не «забытые меньшинства», определяли стратегический курс внешней политики США все эти годы. Вместе с политиками, современные американские историки совсем позабыли и о военных, которые сохраняют огромное влияние на события, не обращая внимания на пренебрежение со стороны историков-постмодернистов.
Вновь актуальным в современных условиях оказывается известный тезис Р. Арона: «Крупнейшие государства всегда сильнее влияют на международную систему, чем она на них». Такое понимание международных отношений не опровергает выводы международной и трансграничной истории, равно как и выводы социальных конструктивистов. Оно лишь переворачивает с ног на голову иерархию предметов исследования, сложившуюся в современной американской исторической литературе. Частным сюжетам отводится место на втором плане, центр же внимания предлагается перенести на главных героев современной социально-политической реальности: политиков, военных, на правительственные институты и влиятельные бизнес-структуры.
Вывод, который делают Бесснер и Логваль, может поразить неискушенного читателя своей банальностью: для понимания поведения США на внешнеполитической арене надо изучать внешнюю и внутреннюю политику американского государства. Однако ситуация в американской исторической науке сегодня такова, что этот вывод необходимо подкреплять многочисленными и довольно изощренными аргументами. В частности, авторы весьма убедительно показывают, что практически все ключевые решения, принимаемые американскими президентами в XX веке, были связаны не только, и не столько с «национальными интересами», сколько с внутриполитической борьбой, желанием обеспечить народную поддержку накануне выборов. Также справедливо указывается, что во многих современных исследованиях «холодной войны» и более ранних эпох международная система описывается в категориях, выработанных в период неолиберальной глобализации 1990–2000-х гг. Даже если в это время негосударственные акторы действительно смогли заявить о себе во весь голос, это не значит, что следует переписывать всю предшествующую историю в транснациональном ключе. То же самое можно сказать и о роли «забытых меньшинств»: сегодняшний акцент в общественном и научном дискурсе на субъектности этих групп не способен поменять прошлое и наделить их субъектностью в более ранние периоды истории, когда они, действительно, были оттеснены от принятия решений и активного участия в общественной жизни.
Вряд ли уважаемые историки решились бы на столь жесткую критику подходов «новой истории дипломатии» еще несколько лет тому назад, до начала президентства Трампа. Примечательно, что и в статье 2020 г. они соблюли все возможные приличия, и посвятили значительную часть текста обзору позитивного вклада международной и транснациональной методологии в историографию. В одном месте, рассуждая о праве историков самостоятельно выбирать любые предметы для своих исследований, они даже политкорректно использовали женский род (every historian will have her own specific set of subjects in which she is most interested). Однако, в целом, критика постмодернистских подходов к изучению внешней политики США уже начинает сегодня напоминать по своему накалу и убедительности аргументов критику, которая звучала в адрес традиционной дипломатической истории в 1970–1980-е гг. Похоже, что происходящее лучше всего может быть описано в категориях гегелевской диалектики: на смену традиционалистскому тезису и постмодернистскому антитезису постепенно идет некий историографической синтез, вмещающий в себя своих предшественников, но представляющий собой нечто большее, чем сумма слагаемых.
Признаки такого синтеза можно увидеть в разработке самых разных научных направлений. Один из характерных примеров – методология архивных исследований. До начала активного внедрения мультиархивного подхода в 1980–1990-е гг. историки внешней политики США вполне довольствовались американскими правительственными архивами и заботились в основном лишь о введении в научный оборот ранее засекреченных документов. Затем наступила эпоха всеобщего интереса к зарубежным архивам, для работы в которых требовалось знание иностранных языков и значительно более щедрое финансирование. Неудивительно, что самые успешные и известные программы «международной истории США» возникли при больших богатых университетах и научных центрах (например, «Международная история холодной войны» в центре Вильсона, финансируемая за счет гранта фонда Макартуров, или проект исследований «холодной войны» при Гарвардском университете). Значительное преимущество получили историки, живущие за пределами США: они часто оказывались незаменимыми участниками американских исследовательских проектов, работая в архивах своих стран и изучая материалы на родных языках.
В последние годы все громче звучат голоса историков внешней политики, которые призывают вернуться к более глубокой разработке американских правительственных архивов, но делать это более эффективно, с использованием новых информационных технологий. В упоминавшейся статье Бесснера и Логваля даже содержится слабо завуалированное утверждение, что несколько десятилетий работы с зарубежными архивами показали только одно: в годы «холодной войны» в абсолютном большинстве случаев именно действия правительства США оказывались наиболее значимым фактором эволюции международной системы. Правительства зарубежных стран и разного рода неправительственные акторы если и проявляли какую-то инициативу, всегда делали это крайне осторожно и с оглядкой на Вашингтон.
Одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере «цифрового источниковедения» внешней политики США считается М. Коннелли, профессор Колумбийского университета. В своих размышлениях он отталкивается от известного тезиса о том, что в современном мире резко возрос объем информации, фиксируемой в цифровом виде. В области американской внешней политики это и оцифрованные данные из архивов, и новые документы, изначально созданные на электронных носителях, такие как электронная переписка или медиафайлы. Вытекающие из этого проблемы относятся к двум большим категориям: как сохранить, и как обработать существующие исторические источники. Хотя в деле хранения и обеспечения доступа к архивным документам Соединенные Штаты по сравнению с другими странами добились впечатляющих успехов, ситуация в этой сфере далека от идеальной. Огромные массивы документов уничтожаются как «малозначимые», хотя, как справедливо указывает Коннелли, в эпоху «больших данных» любая информация, особенно содержащая некие повторяющиеся паттерны, может оказаться на вес золота, если применить к ней эффективный алгоритм обработки. Еще десять лет назад казалось, что даже простой поиск по ключевым словам в электронных базах данных позволит современным историкам достичь гораздо более значимых научных результатов по сравнению с историками предыдущих поколений. Однако сегодня такой подход уже выглядит малоэффективным. Появились разнообразные инструменты статистического и контент-анализа. В частности, Коннелли с коллегами предприняли несколько исследований массива дипломатической переписки госдепартамента с зарубежными представительствами. В ходе одного из них производилось сравнение доли засекреченных телеграмм в общем потоке в разные хронологические периоды, что позволило сделать важные выводы о процессе принятия решений в моменты международных кризисов периода «холодной войны» (начало обширной засекреченной переписки интерпретировалось в качестве индикатора, свидетельствующего о принятии ключевых решений различными президентскими администрациями)[27].
В предыдущие годы Коннелли, как и многие другие историки внешней политики США, активно продвигал международный и трансграничный подходы, написал несколько книг в этом ключе. Однако увлечение «большими данными» заставило его вновь обратиться к американским правительственным архивам, как наиболее перспективному источнику. При этом Коннелли не считает, что занимаясь подобными сюжетами он отказывается от глобальной перспективы своих штудий. Одной из его инициатив последних лет был призыв создать глобальное сообщество историков мировой политики. По мнению Коннелли, в одиночку историкам не справиться с огромным массивом новых документов, необходимы хорошо организованные коллективные усилия[28]. Впрочем, об этом он писал еще до избрания Трампа и до того, как тренд на открытие архивов сменился во многих странах мира противоположной тенденцией усиления охраны государственных секретов и сооружения новых, теперь уже цифровых, железных занавесов.
Далеко не все участники современных методологических дискуссий в США согласны с тезисом, что «новая дипломатическая история» обогатила традиционную истории дипломатии, и что имеет место плодотворный синтез старых и новых подходов. Часто звучит и более радикальная критика, особенно в адрес сторонников «культурного поворота» в историографии внешней политики. Еще в 2017 г. Пэл Брэндс из университета Джонса Хопкинса сформулировал три претензии к новой дипломатической истории[29]. Во-первых, это исчезновение интеллектуальной общности историков. Стремительное умножение тем и сюжетов исследований привело к тому, что коллеги по профессии часто даже не могут поддерживать содержательный разговор друг с другом, не говоря уже о «великих дебатах», некогда ведущихся в рамках истории дипломатии. Произошла «балканизация» предметного поля истории внешней политики, и есть только единичные примеры эффективного взаимодействия между учеными. На первой стадии реформирования традиционной дипломатической истории, когда акцент делался на поиске новых материалов в зарубежных архивах, разобщенность была менее заметна, так как основным направлением работы для большинства исследователей оставались новые интерпретации ключевых моментов «холодной войны» и других хорошо изученных по американским материалам эпизодов внешней политики США. Но по мере распространения постмодернистских подходов, тематика традиционной истории дипломатии становилась все более нерелевантной, и к концу второго десятилетия XXI века ключевые (по мнению Брэндса) вопросы войны и мира окончательно перестали интересовать историков внешней политики США. Именно это Брэндс обозначает в качестве своей второй претензии к современной историографии, и к современному преподаванию истории внешней политики в американских университетах. В качестве примера он приводит эпизоды из собственного преподавательского опыта. В курсе по истории внешней политики США после 1898 г., который он помогал вести в качестве ассистента в Йельском университете, не разбирался ни один из международных политических кризисов XX века, речь шла лишь о роли женщин, афроамериканцев, глобальных процессах и т.п. В Дьюкском университете, где ему также довелось преподавать, в курсе о Второй мировой войне освещались темы, связанные с кинематографом, литературой, социально-культурными процессами – а о ходе боевых действий, переговорах между державами и их военных стратегиях вообще не упоминалось.
Третья проблема новой дипломатической истории, на которую указывает Брэндс – специалисты-историки совершенно утратили влияние на американских политиков. Это не означает, что политические лидеры остались без внешнеполитических советников: их сегодня больше, чем когда бы то ни было, но практически никто из них не работает на исторических факультетах и не занимается профессионально «новой историей дипломатии». Знания, которые производит последняя, не могут быть востребованы действующими политиками, так как эти знания слишком фрагментарны, носят частный характер и не связаны напрямую с вопросами, содержащимися в актуальной внешнеполитической повестке. Также, существенную негативную роль играет скептическое отношение ученых к государству как таковому. Представители «новой истории дипломатии» не считают государство наиболее важным и достойным изучения актором международной системы, а политики отвечают им взаимностью, и передоверяют внешнеполитическую экспертизу представителям других профессиональных групп: политологам, кадровым дипломатам, журналистам и т.д. Само по себе это не представляло бы большой проблемы – какая разница, под какими дисциплинарными рубриками развивается изучение внешней политики, – но Брэндс указывает на важный нюанс: специалисты, разбирающиеся в вопросах войны и мира, работают сегодня в самых разнообразных организациях, но их трудно отыскать на истфаках американских университетов. А это значит, что подготовка студентов практически целиком отдана на откуп последователям «новой истории дипломатии». Новое поколение выпускников американских истфаков будет хорошо разбираться в идентичностях, гендерных и расовых факторах, но на международной арене США придется иметь дело с традиционными национальными государствами, которые, по наблюдениям Брэндса, гораздо жестче контролируют свое образовательное пространство и уделяют должное внимание подготовке специалистов по истории мировой политики и военной стратегии. С особой горечью автор говорит о том, что в современных китайских университетах студентов учат истории внешней политики по классическим трудам американских авторов, таких как П. Мэхэн и П. Кеннеди, но их имена сегодня трудно отыскать в списках рекомендованной литературы в американских силлабусах.
Пытаясь найти не только идеологическое, но и методологическое объяснение крена американской историографии внешней политики в сторону изучения социо-культурных феноменов и негосударственных акторов, Брэндс приходит к довольно неожиданному выводу о вреде резкого отрицания презентизма. По его мнению, в среде профессиональных историков в последние годы принято подвергать презентизм испепеляющей критике и противопоставлять ему «правильный» принцип историзма. В частности, многие историки утверждают, что запросы современной общественно-политической жизни не должны определять направление и содержание исторических исследований. Считается, что эти исследования должны подчиняться лишь внутренней логике развития науки. В результате, между наукой и политикой образуется зияющая пропасть, которая сегодня уже начинает представлять угрозу для национальной безопасности США.
С рассуждениями Брэндса о презентизме можно согласиться лишь отчасти. Известно, что многие американские историки-постмодернисты совмещают в своем мировоззрении критическое отношение к американскому государству, и самый что ни на есть радикальный презентизм. Они выбирают в качестве предмета своих исследований историю «недооцененных меньшинств» и второстепенных акторов внешней политики главным образом из-за того, что «история, перевернутая с ног на голову» вызывает большой общественный интерес. Получается, что правильнее говорить не о борьбе между историзмом и презентизмом в современной американской историографии внешней политики и дипломатии США, а о трех противостоящих друг другу идейно-методологических лагерях: консервативных презентистах, лево-либеральных презентистах-постмодернистах, и умеренных профессионалах, склонных к отстаиванию принципа историзма в исторических исследованиях. Голоса представителей двух первых групп звучат сегодня громче всего, причем в период президентства Трампа консервативные презентисты перешли в атаку и заставили презентистов-либералов занять оборонительные позиции. Историки-профессионалы пытаются найти какие-то основания для историографического синтеза, перейти на новый уровень исследований внешней политики США, отвечающий вызовам современности, но успех этого предприятия будет зависеть не только от историков, но и от американских политиков, от их способности удержать под контролем ситуацию в глобальной системе международных отношений. Опыт изучения тенденций американской историографии внешней политики США показывает, что доминирование в ней тех или иных научных школ всегда было тесно связано с фазами общественно-политического развития. Успехи и провалы американского правительства внутри страны и за ее пределами, ускорение и замедление процессов глобализации – все это создавало уникальный контекст развития исторической науки. Транснациональный подход в истории внешней политики вряд ли имел бы шансы на успех в разгар «холодной войны», а классическая история дипломатии стала выглядеть совершенно неуместной в 1990-е гг. Осознание данного факта приводит к выводу, что изучение споров, которые ведут между собой американские историки, не просто удовлетворяет наше академическое любопытство, но и помогает лучше понять тенденции развития мировой политической системы, ведь именно эти тенденции задают тон и общее направление методологических дискуссий.
[1] May E. The Decline of Diplomatic History // George A. Billias and Gerald N. Grob, eds., American History: Retrospect and Prospect. New York, 1971.
[2] Maier Ch. Marking Time: The Historiography of International Relations // M. Kammen (ed.). The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United States. Ithaca, 1980.
[3] См., например, вышедший в это время классический труд Г. Киссинджера: Kissinger H. Diplomacy. Simon & Schuster, 1994.
[4] Brands H. The Triumph and Tragedy of Diplomatic History // Texas National Security Review. November, 2017. URL: https://halbrands.org/wp-content/uploads/2018/02/Triumph-and-Tragedy-of-DH.pdf
[5] Rethinking American History in a Global Age / Ed. by Th. Bender. Oakland, University of California Press, 2002.
[6] Zeiler T.W. The Diplomatic History Bandwagon: A State of the Field // The Journal of American History. March, 2009.
[7] Explaining the History of American Foreign Relations / Ed. by F. Costigliola and M. Hogan. Cambridge University Press, 2016. P. 2.
[8] Ibid.
[9] Hoganson K. Fighting for American Manhood: How Gender Politics Provoked the Spanish–American and Philippine–American Wars. New Haven, CT, 1998.
[10] Costigliola F. Roosevelt’s Lost Alliances: How Personal Politics Helped Start the Cold War. Princeton, NJ, 2012.
[11] Dean R. Imperial Brotherhood: Gender and the Making of Cold War Foreign Policy. Amherst, MA, 2001.
[12] Naoko Shibusawa. America’s Geisha Ally: Reimagining the Japanese Enemy. Cambridge, MA, 2006.
[13] Costigliola F. ‘Unceasing Pressure for Penetration’: Gender, Pathology, and Emotion in George Kennan’s Formation of the Cold War // Journal of American History 83:4, March 1997.
[14] Inboden W. Religion and American Foreign Policy, 1945–1960: The Soul of Containment. New York, 2008.
[15] Preston A. The religious turn in diplomatic history // Explaining the History of American Foreign Relations / Ed. by F. Costigliola and M. Hogan. Cambridge University Press, 2016. P. 290
[16] Schwenkel Ch. The American War in Contemporary Vietnam: Transnational Remembrance and Representation. Bloomington, IN, 2009.
[17] Perilous Memories: The Asian Pacific War(s) / Ed. by T. Fijitani, G. White and L. Yoneyama. Duke University Press, 2001.
[18] Rosenberg E. Foreign Affairs after World War II: Connecting Sexual and International Politics // Diplomatic History, Vol. 1. Issue I, 1994.
[19] Spatial History Project (http://spatialhistory.stanford.edu)
[20] Rosenberg E. Considering borders // Explaining the History of American Foreign Relations / Ed. by F. Costigliola and M. Hogan. Cambridge University Press, 2016. PP. 188-202.
[21] George A., George J. Woodrow Wilson and Colonel House: A Personality Study. New York, 1964 (основные выводы исследования были впервые опубликованы в 1956 г.)
[22] Hermann M. Leadership Personality and Foreign Policy Behavior // Comparing Foreign Policies: Theories, Findings, and Methods. New York, 1974.
[23] Pollack K. Spies, Lies, and Weapons: What Went Wrong // Atlantic Monthly. No 293. January-February 2004.
[24] Immerman R., Gronich L. Psychology // Explaining the History of American Foreign Relations / Ed. by F. Costigliola and M. Hogan. Cambridge University Press, 2016. PP. 339-344
[25] Costigliola F. Reading for emotion // Explaining the History of American Foreign Relations / Ed. by F. Costigliola and M. Hogan. Cambridge University Press, 2016. PP. 356-373
[26] Bessner D., Logevall F. Recentering the United States in the Historiography of American Foreign Relations // Texas National Security Review. Vol 3, Iss 2. Spring 2020. URL: http://dx.doi.org/10.26153/tsw/8867
[27] Souza R., Coelho F., Shah R., Connelly M. Using artificial intelligence to identify state secrets // ArXiv preprint. 2016/11/1. URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1611/1611.00356.pdf
[28] Connelly M. The Next Thirty Years of International Relations Research // Les cahiers Irice. 2015/2, No 14. URL: https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2015-2-page-85.htm
[29] Brands P. Op. cit.